А л е к с а н д р а А н д р е е в н а. Да, да.
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а. Я думаю, Саша прав. С какой стати будут знать другие, что все равно не поймут, а унижать и наказывать себя — так ведь в этом наполовину, по крайней мере, вызова и неестественности.
А л е к с а н д р а А н д р е е в н а. О, да, конечно.
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а. Мне хочется, как Саша решит. Пусть знают, кто знает мое горе, связанное с ребенком, а для других — просто у нас будет он.
А л е к с а н д р а А н д р е е в н а. Я знала. Поди к себе. Я тебе не судья. (Заговариваясь про себя.) Вытравить ребенка. Какая безумная жестокость!
Любовь Дмитриевна, выпрямившись, удаляется.
Квартира на Галерной. В большой после ремонта комнате (убрана стена между двумя маленькими) Любовь Дмитриевна, спокойная и тихая, как прежде, и Евгений Иванов. На звонок выходит Блок.
Б л о к (заглядывая в дверь). Письмо от мамы. Пойду допишу ей письмо. (Уходит к себе в кабинет.)
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а. Мне было страшно. Если бы не Саша, я не знаю, как бы я все это вынесла? Страшно было взглянуть в зеркало, наблюдая гибель своей красоты. Впрочем, Саша очень пил в эту зиму и совершенно не считался с моим состоянием.
И в а н о в. Простите, я бы не сказал. Он пил один, когда вас не было, блуждая по городу и заглядывая в кабаки. А тут он выписал из "Анны Карениной": "Но теперь все пойдет по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить".
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а. Да, он обрадовался рождению мальчика, с удовольствием назвал его Дмитрием. Он был светел, раздумывая, как его растить, как воспитывать. Но жизнь не допустила.
И в а н о в. Бог дал, бог взял. Вы оба еще очень молоды.
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а. Молоды? А вот что он пишет. (Берет в руки тетрадь.)
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутясь проклятым роем…
Вино и страсть терзали жизнь мою…
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою…
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла…
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла…
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Всё миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
И в а н о в. Убрал?
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а (смахивая слезы). Ведь мы уезжаем. Все убрано, запаковано. Сюда уж больше, наверное, не вернемся.
И в а н о в. Но вы уезжаете вместе, в Италию, куда давно собирались.
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а. Да. Но то денег не было, то ему было не до меня. Я продала Русскому музею этюды Александра Иванова из отцовского наследства и рада, что Саша наконец побывает в Италии.
Б л о к (за письменным столом). А вечером я воротился совершенно потрясенный с "Трех сестер". Это — угол великого русского искусства, один из случайно сохранившихся, каким-то чудом не заплеванных углов моей пакостной, грязной, тупой и кровавой родины, которую я завтра, слава тебе господи, покину… Изо всех сил постараюсь я забыть начистоту всякую русскую "политику", всю российскую бездарность, все болота, чтобы стать человеком, а не машиной для приготовления злобы и ненависти. (Вскакивает с громким возгласом.)
Любовь Дмитриевна и Евгений Иванов прибегают к Блоку.
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а. Саша!
Б л о к. Что, заговариваюсь? Я считаю теперь себя вправе умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают, подлецы, и околевают в своих помоях.
И в а н о в. "Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв"?
Б л о к. О, да!
И в а н о в. Прекрасно. Я пойду, а завтра, само собой, приеду вас проводить в благословленную Италию. Только, прошу, не надо поносить Россию, как всякий русский, покидая ее пределы.
Б л о к (с улыбкой). Не Россию я проклинаю, а упырей.
И в а н о в. Да и упыри наши.
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а. Ну, начинается?
И в а н о в (убегая). Мне пора. Прощайте!
Б л о к (следуя за ним). Это, наверное, один из упырей под видом Жени. Да, не будем мы спать. Вскоре уже ехать на вокзал.
Блок и Иванов бегают по всей квартире, Любовь Дмитриевна смеется. И тут разносится утренний колокольный звон с Исаакия.
Шоссейная дорога вдоль лесистой возвышенности с бесконечными далями. Хор масок и ряд действующих лиц, за ними следует Блок, погруженный в думы.
Б л о к
Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган.
Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро,
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро…
Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!
В е р и г и н а
О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
М е й е р х о л ь д
Черный ворон в сумраке снежном,
Черный бархат на смуглых плечах.
Томный голос пением нежным
Мне поет о южных ночах.
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а
В легком сердце — страсть и беспечность,
Словно с моря мне подан знак.
Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак.
В о л о х о в а
Страшный мир! Он для сердца тесен!
В нем — твоих поцелуев бред,
Темный морок цыганских песен,
Торопливый полет комет!
Хор масок пляшет, вовлекая в хоровод и актрис, и Мейерхольд их уводит за собой. Блок выбегает на луг.
Б л о к
О, я хочу безумно жить:
Всё сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!
Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:
Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!
Сюита из комедии «Анна Керн»
Санкт-Петербург. Зал в колоннах в доме Олениных на Фонтанке. Шарада, то есть в живой картине молодая женщина поразительной красоты изображает Клеопатру, в руке у нее корзина с цветами. Среди гостей баснописец Крылов с его колоритной фигурой, мелькают также Дельвиг в очках, генерал Керн, Полторацкий, — все как бы в дымке воспоминаний. На переднем плане останавливаются Пушкин и офицер.
П у ш к и н. Слишком юна и невинна для Клеопатры Анна Керн.
О ф и ц е р. Однако она замужем и молодая мать.
П у ш к и н. А кто ее муж, этот счастливец?
О ф и ц е р. Боевой генерал.
П у ш к и н. Ого! Значит, он стар. На твое счастье, я думаю.
О ф и ц е р. Я ее двоюродный брат.
П у ш к и н. Тем лучше! И что же такое, скажи, Анна Керн?
О ф и ц е р. Она робка и серьезна; с увлечением читает Руссо и мадам Сталь. Она умна.
П у ш к и н. Зачем хорошенькой женщине ум? Подойдем к ней. (Осмотрев корзину с цветами и указывая жестом на офицера.) А роль змеи, как видно, предназначается этому господину?
Анна Керн, отвернувшись, уходит.
О ф и ц е р. Ах, Пушкин! Твоя шутка не понравилась госпоже Керн.
П у ш к и н. Я же говорю: зачем хорошенькой женщине ум? Красота в ней — всё! В досаде на меня она и вовсе блистательна. (Наблюдая за Керн издали, застывает в задумчивости, как в шараде, привлекая внимание окружающих.)
Тригорское. Парк над рекой. Шум ветра в верхушках деревьев; лиловые тучи закрывают солнце, и воцаряются ранние летние сумерки. У скамьи Анна Вульф и Анна Керн.
![Петр Киле - Телестерион [Сборник сюит]](https://cdn.my-library.info/books/241822/241822.jpg)
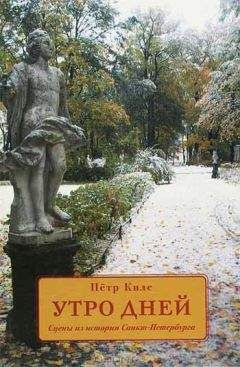
![Петр Киле - Таинства красоты [Стихи и поэмы о любви]](https://cdn.my-library.info/books/243882/243882.jpg)
![Пётр Киле - Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](https://cdn.my-library.info/books/216275/216275.jpg)

